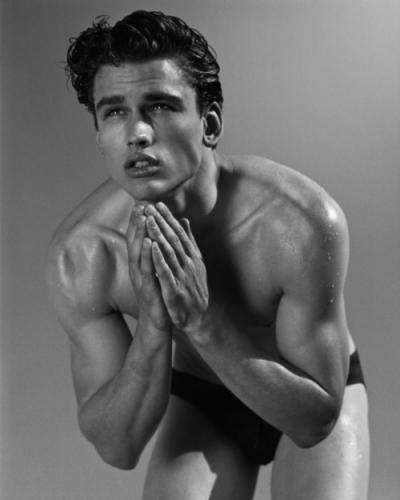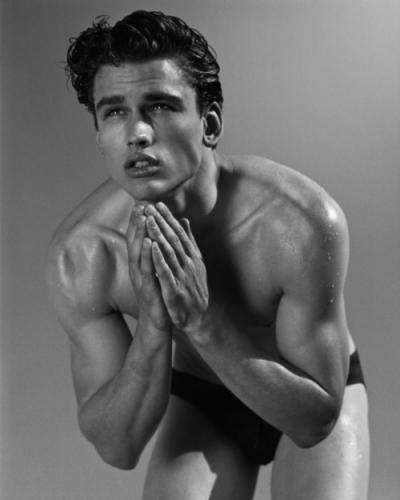
Дом...
Город... До...
Я женатый человек. У меня дерьмовая работа, дерьмовая машина и самая красивая жена. Она до сих пор краснеет, когда я называю её своей женой, даже, несмотря на то, что это так. Она жена и она моя.
Наша квартира в шаговой доступности от центра. Она маленькая, даже для двоих, но это всё, что мы можем себе позволить сейчас. Я морщусь каждый раз, когда плачу за аренду. Это единственный многоквартирный дом в окрýге.
Остальная улица застроена частными домами двадцатых, тридцатых, сороковых годов. Большинство из них были перестроены заново и теперь сверкают безупречной чистотой. Когда-то это были летние коттеджи людей из большого города, а теперь это семейные дома по баснословной цене в одном из самых завидных районов. Если бы не работа Ксаны, мы бы переехали куда-нибудь в более дешёвое жильё. Куда-нибудь, где мы смогли бы купить дом.
У нашей спальни общая стена с соседской квартирой. Там живет пожилая пара, и Ксана клянётся, что они слышат, как мы занимаемся сексом. Этот мужчина и его жена всегда смотрят на меня, как на вора. Мне плевать, что они могут услышать.
По воскресеньям мы ходим завтракать в маленькую забегаловку, которая почти в центре города, и где принимают только наличные. Я беру омлет, Ксана заказывает яйца Бенедикт, и мы съедаем всё до последней крошки. Каждое воскресенье.
С набитыми животами дорога домой вдвое длиннее. Я прижимаю её к себе, даже, несмотря на то, что на летнем солнце слишком жарко, когда мы идём кожа к коже.
Я никогда не знал, что быть женатым – это так. Идти домой в воскресенье в лучах солнечного света и не хотеть ничего больше.
Она наклоняется ко мне, и я думаю, что за исключением того, когда она голая, это моя любимая вещь. Факт, что мы можем просто идти и молчать.
Летом здесь почти всё коричневое. Сухое, мёртвое и коричневое. В каком-то смысле это прямо как провинция, за исключением скорости, шума и ресторанов с сомнительной пищей.
Мы сворачиваем на нашу улицу, на которой нет тротуаров. Моя рука свисает с её плеча, Ксана на ходу играет с моими пальцами. И если бы она позволила мне раздеть её прямо сейчас, я бы раздел. Прямо здесь, на улице.
Она останавливается, чтобы сорвать ярко-оранжевый мак. Цветы растут здесь повсюду, на каждой поверхности, буйно разрастаясь даже летом, когда почти всё засыхает.
Она вертит его в пальцах до тех пор, пока я не забираю его у неё и не засовываю ей за ухо.
Её руки проскальзывают в мои задние карманы, когда она встаёт на цыпочки, и в такие моменты, с цветком, засунутым за её ухо, кажется невозможным, что она вся моя.
- Надо бы съездить сегодня на пляж, - говорит она мне в губы.
Мне не нравится песок, солёная вода и незнакомцы, похотливо рассматривающие мою жену.
- Уже почти полдень. Пока мы соберёмся и доедем, день кончится. – Я целую нежнейшую кожу её шеи. Она пахнет воскресеньем. – Давай просто пойдём домой.
Она смеётся мне в грудь, и я не могу поверить, что она вышла за меня.
Она больше не заводит разговор о пляже. Она знает, что я поеду, если она продолжит говорить об этом.
Мы идём по шуршащему гравию. Она тыкает меня локтем в рёбра; я хватаю её за талию. Она спрашивает у меня про любимый день, и я рассказываю ей про тот день рождения, когда самая красивая девушка поцеловала меня, а потом сбежала через изгородь.
- Теперь ты моя навсегда, и я могу целовать тебя, когда хочу.
Она вырывается из моих рук, глазами призывая следовать за ней. С лукавой улыбкой пятясь назад, она знает, что я последую.
Она чуть не спотыкается об табличку «День открытых дверей». Её глаза следуют за стрелкой по длинной подъездной дорожке, и я всё понимаю по её позе даже раньше, чем она говорит. Вдалеке от улицы стоит дом, и его едва видно с того места, где мы стоим. Она хочет войти в него, и мы войдём. Потому что когда дело касается Ксаны, я, блядь, лишаюсь силы воли.
Она ведёт меня по подъездной дорожке. Она по обеим сторонам засажена разросшимся плющом. Я могу лишь представить себе грызунов, которые здесь живут.
Шпалера, посеревшая от времени, увитая густыми коричневыми вьющимися стеблями, служит входом в дом. Я не уверен, живы ли стебли. Сам дом коричневый и унылый - лето. Краска нанесена толстым слоем, и в нескольких местах отходит. Заметные трещины в стене дома ведут к входной двери.
Но Ксана ничего этого не видит. Она видит лишь табличку «Продаётся» и открывающиеся перспективы. Вот за что я её люблю. За этот огонь в глазах, когда она чего-то хочет.
- Обшивка не должна быть вровень с землёй, как здесь. – Я невольно говорю это вслух. – Здесь, наверное, кишат термиты.
Она игнорирует меня и тянет за руку. Мы входим в дверь раньше, чем я успеваю раскритиковать ещё что-нибудь.
Риэлтора нигде не видно. Дом совершенно пуст. В нём пахнет заплесневелым освежителем воздуха. Все стены свежевыкрашенные в цвет белой кости.
Мы идём из комнаты в комнату, и я практически ощущаю восторг, который излучает кожа Ксаны каждый раз, когда она прикасается ко мне.
Кухня почти полностью оригинальная, желтая плитка с чёрной отделкой, в некоторых местах цвет совершенно стёрся. Ксана стоит у огромной, в фермерском стиле, раковины, выглядывая в окно, выходящее на переднюю дорожку. Там не на что смотреть, но она улыбается так, словно это всё, чего она когда-либо хотела.
Ковёр, покрывающий лестницу, истёрт донельзя. И он пахнет стариками. Ксана исчезает наверху, пока я осматриваю обои, свисающие со стен в столовой. Я задаюсь вопросом: кто здесь умер.
Блондинка с явно силиконовой грудью входит через дверь, ведущую на задний двор.
- Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы. Не стесняйтесь, осматривайте всё. Цена хорошая, - говорит она с безумнейшей улыбкой. Ей следовало бы тренироваться перед зеркалом. Она выглядит, как дура.
Рядом со мной возникает Ксана и нетерпеливо спрашивает у риэлтора:
- Многие интересовались?
- Сегодня посещаемость невелика, но я уверена, что дом будет быстро продан. Как и всё в этом районе. – Но даже Ксана распознат ложь. Она прямо читается по её глазам. Всё в этом районе, как с картинки в журнале по архитектуре и дизайну интерьеров. Это такие дома, что покупают местные. Люди, которые здесь живут, не желают чинить сломанные вещи.
- Пойдём, посмотришь наверху. – Ксана улыбается мне. Но, может, я не хочу видеть, что там наверху. Ксана тянет меня за пальцы, её серьезные глаза ищут мои. Её лицо совсем чуть-чуть опускается, и, похоже, моё сердце готово остановиться от осознания, что виной тому я.
- Показывай.
Она сияет и тянет меня за руку. Ступеньки скрипят, перила шатаются. Этот дом – денежная яма.
Она практически шатается, когда ведёт меня в спальню налево от лестницы. Здесь полы старые, деревянные, без грязных ковров, что расстелены по всему остальному дому.
Сквозь крону старого дуба, растущего у передней дорожки, пробиваются пятна света. Я могу понять, почему ей это нравится.
- Ну, разве это не романтично? – Она практически умоляет меня согласиться. Я пытаюсь увидеть то, что видит она, но не знаю, могу ли я вообще увидеть мир её глазами.
Она держит руки под подбородком, как делала всегда, когда мы были юными и глупыми.
- Ты должен увидеть ванную.- Она смеётся, ведя меня в маленькую ванную в углу комнаты.
Я осматриваю это маленькое помещение, гадая, что делает его таким особенным. Все шкафчики выкрашены в бледно-жёлтый цвет, и краска нанесена так густо, что они почти кажутся мягкими.
Ванна старая и не слишком чистая. Кажется, она подлинная. Пол выложен мелкой белой плиткой с самым грязным раствором, что я когда-либо видел.
Ксана стоит перед унитазом, выжидающе глядя на шкафчик на стене.
- Что?
- Открой его! – пищит она. И обычно это то, что я люблю в ней. За исключением того, что я чувствую, что близок к тому, чтобы разочаровать её. Словно сейчас я покажу, что не могу дать ей всё, что она когда-либо хотела. Мы не можем позволить себе дом. Даже этот дом.
Я смотрю на маленький шкафчик, гадая, что там может быть такого, что приводит её в полный восторг.
Я открываю дверцу слишком быстро, и что-то выпадает. Я подпрыгиваю, и она смеётся до тех пор, пока я тоже не начинаю смеяться. Это гладильная доска. Маленькая гладильная доска, которая по ширине умещается в стену, и мне хочется дать ей это. Мне хочется дать ей дом со старой гладильной доской, которая убирается в шкафчик.
Меня совершенно застают врасплох такие моменты, когда я чувствую, что люблю её сильнее, чем любил вчера. Люблю её так сильно, что не хочу отказывать ей ни в чём.
Я сплетаю наши пальцы. Она тянется ко мне, притягивает моё лицо к своему, шепчет мне в губы свои надежды и мечты.
- Разве ты не видишь, как мы здесь стареем?
- В этой ванной?
Она улыбается мне в лицо.
- Нет. Не в этой ванной. – Она ведёт меня обратно в комнату, солнечный свет играет на её волосах, когда она прижимает меня к дальней стене, её губы на моей челюсти.
- Вот здесь, - шепчет она.
Глаза закрыты, я пытаюсь это увидеть. Как мы стареем.
Она отстраняется, её губы покидают моё лицо, но прежде чем я успеваю возразить, она снова обнимает меня на середине комнаты.
- И здесь, - говорит она мне в рот. Я позволяю своим рукам блуждать, пока она, улыбаясь, осыпает меня поцелуями и умоляет о том, что я хочу ей дать.
Я задаюсь вопросом: перестану ли я когда-нибудь нуждаться в ней, перестану ли когда-нибудь хотеть раздеть её догола в неподходящих местах.
- Вот где будет стоять наша кровать, - подстрекает она меня. И эти слова – моя погибель. Всё это вынуждает меня прижать её к полу, на том самом месте, где будет стоять наша кровать, мои губы жадно ласкают её губы, мои бёдра удерживают её на месте.
Она не возражает, целует меня в ответ так, словно я для неё - то же, что и она для меня.
- Пойдём домой, - молю я её.
- Представь, что бы ты сделал со мной сейчас, если бы это был наш дом.
- Ты играешь нечестно, - со стоном говорю я ей в шею.
- Я знаю. Действует?
- Возможно, - честно говорю я, щурясь под её умоляющим взглядом.
- Не могу дождаться нашей первой ночи в этой спальне, Валера.
- Ты меня убиваешь.
- Скажи «да».
- Дай я тебя раздену.
- Скажи «да», и я разрешу тебе делать всё, что захочешь.
- Так это она? Любовь с первого взгляда? – спрашиваю я её. Потому что мне нужно понять.
- Я влюбляюсь раз и навсегда, Валера. Тебе следовало бы знать это обо мне.
- Я совершенно уверен, что со мной так и было, Ксана. Зато тебе нужны были какие-то подтверждения.
- Насколько я помню, всё было не так. – Она улыбается, качая головой.
- Нет? – Я убираю волосы с её глаз.
- Нет. Я помню парня с сигаретой и с улыбкой. Мне хотелось, чтобы он был со мной всегда.
- Ну, он у тебя есть. Только без сигареты.
- Ну и слава Богу, - говорит она, в последний раз чмокая меня в губы.
- Вставай, идём.
- Идём куда?
- Пойдём, попробуем найти нашего риэлтора.
Она улыбается своей фирменной улыбкой. Я помогаю ей подняться на ноги, мельком осматривая комнату, которую она хочет сделать нашей.
Она останавливается на вершине лестницы, заглядывая в комнату поменьше.
- Она крохотная, но идеально подходит для детской, ты так не думаешь?
Всё моё тело застывает.
- Ты же говорила, что не хочешь детей. – Это практически шёпот.
Она смотрит на меня, как на сумасшедшего.
- Ну не в школе же!
Я смотрю, как она спускается по лестнице, внезапный страх растекается у меня в животе. Она останавливается на полпути, когда понимает, что я не иду за ней.
- Ты идёшь? – Она улыбается, не зная, о чём я сейчас думаю.
Я заставляю себя двигаться. Идти за ней. Молча смотрю на неё, когда она задаёт последние вопросы риэлтору с большими сиськами. Я делаю вид, что последних двух минут не было. Я не хочу быть отцом. Никогда.
Я беру Ксану за руку, нуждаясь в том, чтобы ощутить прикосновение её кожи к моей. Она ведёт меня к передней дорожке. Сейчас она вся светится. Я не хочу делать или говорить что-либо, что изменит это.
Остановившись на середине подъездной дорожки, она смотрит в синее-пресинее небо. Я продолжаю идти до тех пор, пока наши руки не расходятся на максимальное расстояние.
Она смотрит на меня так, словно любит меня, и гнетущее чувство внутри медленно исчезает.
- Потанцуешь со мной? – спрашивает она. Словно я могу сказать «нет».
Мои ноги не двигаются, когда я держу руки высоко поднятыми. Она выделывает те штуки – кружится, и весь мир кружится вместе с ней.
Она подаёт на подносе
Мои сокровенные сны,
Залитые соком весны,
Солёным, как первые слёзы.
Она мне читает стихи
О тех, чью любовь не простила,
О том, как по душам гостила,
В себя забирая грехи.
Она смотрит прямо в меня
И, видимо, знает, что дальше.
С ней места нет лжи или фальши,
Она может жить, не виня…
Она ненавидит вопросы
И любит идти наугад.
Она знает – всё очень просто.
Она – не вернётся назад…
…………………………………………………
Она слизала с губ мороженую пенку,
Допив глясе и улыбнувшись в никуда.
Она не Золушка совсем, но на ступеньках
Ищу я туфельку с её ноги всегда.
Быть может, мы ещё увидимся однажды,
Быть может, ты меня узнаешь невзначай.
И если в час тот тебя будет мучить жажда,
Я приглашу тебя на сладкий чёрный чай.
Кровь...
Город... После...
Я её друг. Я всё ещё лгу. Мы никогда не были друзьями.
Этот пустой дом со скрипящими ступенями, слезающими обоями и спальней напротив прихожей, который никогда не станет таким, как она хотела, полон эхо и призраков той жизни, которая когда-то у нас была.
Она снова живёт здесь. В этом городе. Я не знаю, где именно, потому что она мне не сказала. Я и не спрашивал, потому что боюсь, что она откажется говорить. Так что я делаю вид, что это не имеет значения.
Каждый раз, когда я выхожу из этого дома, я гадаю, не столкнусь ли с ней на заправке, в продуктовом магазине или у банкомата. Никогда не сталкиваюсь. С таким же успехом она могла бы жить в миллионе миль отсюда.
В мире слишком спокойно, за исключением тех дней, когда она звонит, и я могу слышать её голос. В те дни всё по-другому.
Мы говорили по телефону одиннадцать раз с того вечера, когда она появилась из ниоткуда и отвезла меня домой. Одиннадцать раз – это так много, но всё равно совершенно недостаточно. После случившегося в тот день, когда умер мой отец, я думал, что всё испортил. Но, полагаю, я не могу уничтожить то, что уже разбито вдребезги.
Мы делаем это на её условиях, что бы это ни было. Когда я спросил, могу ли я ей звонить, она сказала «нет». Когда я спросил, могу ли увидеться с ней, она сказала «нет». Так что я жду её еженедельного звонка.
Обычно она звонит по субботам. Иногда наши беседы лёгкие. В большинстве же случаев я не знаю, что ей сказать такого, что ещё не было бы сказано.
Ранним утром, когда всё серое, я лежу без сна. Представляю её здесь, в нашем доме, в той его версии, где всё починено, всё красивое и именно такое, как она хотела. Я представляю её голую кожу, спутанные волосы и то, как она смотрит на меня прямо перед тем, как кончить.
Я провожу рукой по пустому месту рядом с собой и пытаюсь держаться за наше прошлое. Не могу его отпустить. Даже ради сохранения остатков здравомыслия.
Я провожу утро в столовой, сражаясь со слоями обоев.
Сегодня суббота. Но почти полдень, а Ксана не звонила. Скоро начинается смена Ани, и я сказал ей, что буду. Это не её исчезновения я боюсь.
Я два дня сдирал обои в столовой. Эта хрень не желает сдираться. Как бы мне хотелось вспомнить, в какой цвет Ксана хотела покрасить стены.
Я уже почти опаздываю, когда телефон на кухне звонит. И даже, несмотря на то, что я не знаю, кто звонит, я ЗНАЮ, и это мой любимый звук.
- Алло? – Я практически кричу в трубку, запыхавшийся и совершенно жалкий.
Она смеётся. У меня новый любимый звук. Мне хочется спросить у неё, что такого смешного, но мои губы – это лишь широчайшая глупая улыбка. Смейся всегда. Пожалуйста.
- Привет.
- Привет.
Клянусь – мы говорим это сто раз.
- Ну, чем занимаешься? – Судя по голосу, она так же запыхалась, как и я.
Мне хочется рассказать ей, но это кажется странным. Потому что это то, чего она хотела, и чего я никогда не давал ей, когда мы были женаты.
Честность сложна и несправедлива.
- Просто делаю кое-что по дому. – Частичная правда – это частичная ложь. – Сдираю обои в столовой. – Я задерживаю дыхание.
- О. – Это всё, что она говорит. Она не говорит больше ничего. Поэтому я продолжаю говорить.
- Я думал, они будут сдираться легче, потому что уже отрывались, но – клянусь – они, наверное, клеили их на суперклей или на что-то в этом роде. – Я начинаю молоть вздор.
В трубке неловкая тишина, и мне хочется заполнить её. Чем угодно. Прежде чем она начнёт задавать мне вопросы, на которые я не знаю, что ответить.
- Зачем ты сдираешь обои? – Я опоздал. В её голосе больше нет и намёка на смех. В её голосе почти боль.
Потому что я - мудак.
- Помнишь, что ты сказала мне в тот первый день, когда привезла меня домой, когда мы были детьми? – Вот кем мы были. Детьми.
- Не знаю, могу ли я делать это с тобой, Валера.
- А что мы делаем? – Потому что я действительно не знаю.
- Вспоминаем прошлое.
Я не знаю, о чём говорить. Я не знаю, что можно, а что - нет. Мы оба слишком спокойны.
- Чего ты хочешь, Ксана? – Я крепко сжимаю трубку в кулаке, ожидая её ответа.
Скажи, хоть что-нибудь.
Она отвечает на другой вопрос:
- Я сказала, что люблю старые дома, потому что мне всегда хотелось содрать обои, чтобы увидеть, что под ними. – Я представляю, как она улыбается, говоря это. Я слышу это, чувствую это, вижу это. Клянусь, я, блять, вижу это.
Моё сердце пропускает удар, когда я вспоминаю другое время, других нас. Время, когда перспектива нас вместе имела мало шансов на успех.
- Ты расскажешь мне, что под обоями? – спрашивает она, её любопытство побеждает. И, может, она всё ещё та Ксана, на которой я женился. Может, я не уничтожил её.
- Другие обои, - говорю я ей, в моём голосе явно слышится улыбка.
Она смеётся, и мне хочется увидеть её лицо. Хочется показать ей. Держу пари – её глаза будут сиять.
Я бросаю взгляд на жёлтые кухонные часы и понимаю, что опаздываю.
- Ксана, я терпеть не могу так делать, но мне действительно нужно идти.
- О, ладно, и мне тоже. – Она снова говорит по-другому, не так, как я помню. – До свидания, Валера.
Мне не хочется говорить ей то же в ответ. Не хочется.
- Ты ещё там? – спрашивает она, в её голосе слышится неуверенность в себе.
- Да, прости. Скоро созвонимся?
Теперь молчит она. Она не хочет мне ничего обещать. Я её знаю. Знал когда-то.
- Хорошего дня, Валера.
- Да. Да, тебе тоже.
Я жду, пока она повесит трубку. Когда я слышу щелчок, я молюсь, чтобы это было не в последний раз.
Я продолжаю проигрывать в памяти наш разговор, пока иду так быстро, как могу, к кофейне. Я позволяю себе улыбаться. Наверное, я выгляжу как дурак, но мне всё равно. Мне приятно улыбаться.
Когда я прихожу, Рен меня ждёт. На её грязном лице её собственная и глупая улыбка.
- Ты опоздал, - выговаривает она мне и передаёт пакет с черничными булочками, пытаясь дуться, но выходит это у неё из рук вон плохо. Её выдают глаза. А её голос вызывает у меня смех. Он похож на голос курильщика. Курильщика пяти лет от роду.
- Прости. У меня был важный звонок. Ты готова?
Она спрыгивает с табурета и берёт меня за руку.
- Куда сегодня идем?
- А куда ты хочешь пойти?
- В зоопарк!
Мы оба смеёмся.
- А куда хочешь пойти помимо зоопарка?
- Может, в парк?
- Замётано.
Едва завидев меня, Лиза машет мне из-за кассы. Рен не оглядывается.
Меня беспокоит, что Рен такая доверчивая. А ещё это успокаивает. Я чувствую, что она видит меня так, как не видит никто, и она не ненавидит меня. Совершенно.
Она тянет меня за руку. Видимо, я иду недостаточно быстро.
- Я даже не сказал, какой парк.
- Я знаю какой! - кричит она, смеясь, и бежит вперёд. Её мир так прост. Она не замечает дисфункцию, которая её окружает.
- А что, если я хотел отвести тебя в другой парк? – дразню я её.
Она останавливается и оборачивается. Руки в боки, она изучает моё лицо.
- У тебя же нет машины.
Она слишком умная. И слишком честная.
Я наклоняюсь до тех пор, пока мы не оказываемся нос к носу.
- Ты меня подловила.
Она обхватывает своими маленькими ручками моё лицо, как сделала в первый раз, когда увидела меня. Что-то внутри щемит и болит. И я не думаю, что это только из-за обстоятельств, при которых она родилась.
Она сжимает губы в удовлетворённой усмешке. Мне хочется спросить, что за фигня размазана у неё по всему лицу.
- Что ты ела на завтрак?
Она смущённо указывает на пакет с булочками.
- Я ещё не завтракала.
Её мать вообще её моет? Я пытаюсь стереть большим пальцем розовые пятна, и она уворачивается от меня.
- Валера?
Всё моё тело застывает от звука её голоса. Я не оборачиваюсь. Не могу. Я хочу. Хочу увидеть её. Но я не готов. Я чувствую себя мертвецом.
Пара маленьких рук держится за меня.
- Ты кто? – Рен хмуро смотрит на Ксану, выглядывая из-за моих ног.
- Валера? – спрашивает она снова, её голос пронизан чем-то, что я не могу определить.
И когда я поворачиваюсь к ней лицом, она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Она умопомрачительно красива. Красивее, чем я помнил.
- Ксана, это Рен, - объясняю я, но это ничего не объясняет.
Она переводит взгляд с неё на меня, и с её щёк сходит весь цвет.
И я вижу это. Ноги несут её к васильковому полю. Её ноги перелезают через белую изгородь. Её волосы развеваются на ветру.
Слезы пятнают ей щеки. Её тяжёлые кулаки. Её рука на входной двери.
- Ксана…
- Мне пора, - едва слышно шепчет она, не сводя глаз с Рен. Я знаю, что она думает. Думаю, что знаю. Мне нет прощения. Я сделал слишком много плохого для одного человека, чтобы это можно было простить.
Она оставляет нас там, перед химчисткой. Исчезает за углом, и у меня уходят все силы, чтобы не побежать за ней. Чтобы схватить её и заставить говорить.
Мы с Рен стоим в тишине. За свою недолгую жизнь она видела достаточно, чтобы понимать, когда нужно молчать. Это нечестно по отношению к ней.
Поэтому я веду её в парк. Я обещал. Сегодня я не буду лжецом. Я дарю ей прекрасный субботний день. Провожу послеполуденное время на солнце с маленькой девочкой, которая не хочет ничего, кроме отца, который её обожает. Она заслуживает так много и счастлива, имея так мало.
Неделя проходит медленно. Во вторник я провожу не меньше двух часов в хозяйственном магазине, пытаясь выбрать цвет краски для столовой. Я никогда не обращал достаточного внимания на то, чего хотела Ксана. И я не могу спросить у неё теперь. Слишком поздно. Она засмеёт меня. Она спросит, не сошёл ли я с ума. Я бы сказал ей честно, что сошёл. Что несколько раз терял рассудок. Что я пытаюсь отремонтировать дом, в котором она никогда больше не будет жить.
Я снова вижусь с Рен в четверг. Мы покупаем мороженое в старомодном кафе-мороженом и она съедает его до последней крошки. Словно никогда раньше не ела мороженого.
Она спрашивает про Ксану. И я рассказываю ей. И ни в чём не лгу. Я рассказываю ей столько, сколько, по моему мнению, положено знать пятилетнему ребёнку. Я действую вслепую. Иногда, когда я говорю с ней, я забываю о том, что она ребёнок. Что она живёт на свете всего пять лет. С того дня как она родилась, Земля всего пять раз обернулась вокруг Солнца.
И только когда она говорит что-нибудь крайне честное, я вспоминаю про её возраст. Она говорит, что я уродлив, когда хмурюсь. Она говорит мне, что нужно подстричься или причесаться. Она единственная говорит мне это. Она говорит, что я выгляжу лучше, когда небрит, что когда я улыбаюсь, у меня морщинки у глаз, и что я пью слишком много кофе.
Мы с Рен идём через лесопосадки, возвращаясь на работу Лизы, и я смотрю, как она гоняет ворон в тени деревьев. Я смотрю на неё и думаю о Ксане.
Стая ворон на старом дубе галдит, когда пятилетняя угроза пытается забраться на дерево. Я подсаживаю её на одну из нижних ветвей. Она обдирает колено о сухую кору, но не плачет. Она стойкая.
Я твёрдо стою на ногах. Чувствую себя взрослым.
Стоя в футе от этого дерева, я впервые чувствую, что у меня всё может быть хорошо. Потому что даже, несмотря на то, что Ксана не любит меня, не доверяет мне и не хочет меня, по-прежнему есть воздух, чтобы дышать, и кровь, чтобы течь по венам. Вороны, чтобы бегать за ними и деревья, чтобы лазать на них.
По-прежнему есть люди, которые заслуживают. Земной шар продолжает крутиться. Я не знаю, могу ли продолжать оглядываться назад. Я устал от того, что меня недостаточно.
И когда Рен просит меня понести её, когда я помогаю ей слезть со старого дуба, я останавливаюсь лишь на секунду. Она засыпает у меня на плече с личиком, перепачканным мороженым, и её щуплые ручки и ножки обмякают. Розовые щёчки и спутанные волосы.
Когда мы возвращаемся, Лиза ждёт нас у входа в кофейню, сложив на груди руки, передник переброшен через плечо. Она не ругается, что мы опоздали. Она ничего не говорит.
Она слишком доверяет человеку, которого едва знает. Отчаяние способствует снижению рассудительности.
Ни слова не говоря, я следую за ней к машине и укладываю Рен на заднее сиденье. Она цепляется за мою рубашку, когда я пытаюсь разобраться с ремнём безопасности.
- Завтра у меня вечерняя смена, - говорит Лиза, стоящая сзади.
- До завтра, Рен. Пора домой.
Она моргает, глядя на меня.
- Обещаешь?
- Обещаю. – Я обещаю ей больше, чем когда-либо кому-либо обещал.
- Клянёшься своей жизнью? – спрашивает она, пытаясь держать открытыми закрывающиеся глаза.
Да, малышка, клянусь своей жизнью.
Замело, замело мои руки снегами…
Руки крепко сжимают открытые раны.
Над домами, крича, пролетают вороны,
А мне слышатся крики, мне слышатся стоны...
Заплелись, заплелись мысли лентой шальною,
Я уже не ищу, я бегу за тобою,
И плевать мне, что кровь драгоценнее нефти,
У меня ещё день, чтоб спаси жизнь от смерти.
Упаду, упаду на асфальт грязно-серый,
Разрисую его, словно ткань – костюмеры,
Снова с криком вскочу, догоню своё время,
Прогорю, как напалм, до конечного тленья.
Замело, замело... В феврале всё кружится
Снег огромной-огромной поющею птицей,
А мне сон, только сон небылицей явился,
Как твой голос, крича моё имя, разбился
О стеклянную дверь чьей-то магии чёрной.
Я лечу, я лечу над цепочкой озёрной
И метель вьюжит злобу, пытаясь встревожить,
Но я знаю, я знаю – спасти тебя должен!
Замело? Ну и что? Твои руки всё ближе,
А их пламя моей психофобии лижет.
Я тянусь, я бросаюсь вперёд слабым телом
И тебя навсегда забираю в мир белый.
Пусть теперь, всё теперь тает вечными льдами,
Лишь любовь и весна будут впредь править нами!
Он умирает...
Провинция... После...
Я человек, которому нечего терять. Тело онемело, словно я напился спиртного и наглотался таблеток.
Солнце на небе светит слишком ярко, и в голове у меня слишком ясно для того, что только что случилось.
Держа руку в кармане, я кручу надетое на мизинец обручальное кольцо. Те часы, что я провёл вчера вечером в его безнадёжных поисках в васильках, целиком и полностью стоили того.
Крепко сжав другую руку в кулак, я ударяю дважды, трижды с такой силой, что чувствую боль. Я не останавливаюсь. Не могу. Жжение в костяшках с каждым ударом резкими толчками распространяется по руке. Каждый удар говорит мне, что я не должен был сюда приходить, что мне нужно уйти. Но я, блядь, не могу остановиться.
Дверь распахивается, и это не тот, кого я хочу. Не тот, кто мне нужен.
Она напугана моим присутствием. На её крыльце, рядом с горшком с жёлтыми нарциссами.
Она протягивает ко мне руку, словно я могу быть призраком. Но останавливается, вспоминая о манерах.
Переминаясь с ноги на ногу, я выдавливаю слова:
- Ксана дома?
Она отвечает не сразу. Её глаза изучают меня. На её лице смущённое выражение, но это та жалость, которая душит меня. Она не смотрит на меня так, как я рассчитывал. Так, как мать смотрела бы на мужчину, который сделал её дочери то, что сделал я. Может, это потому, что она не знает. А, может, она тоже лгунья.
- Боюсь, её нет.
Я зажмуриваюсь, потому что не знаю, что ещё делать.
- Мне не следовало сюда приходить.
- Валера…
- Простите, госпожа Баранова.
Когда она качает головой, я отворачиваюсь от неё. Я осторожно иду по вымощенной камнем дорожке, ведущей обратно на улицу, стараясь не задеть ни один из её цветов.
Я чувствую на себе её взгляд.
Иду до тех пор, пока земля под ногами не становится знакомой. Я стою у высокой сосны, растущей в палисаднике, той, которую я всегда, когда был маленьким, хотел украсить гирляндами на Рождество, и смотрю на дом.
Я не хочу входить здесь. Я обхожу дом и поднимаюсь сзади на террасу, которая проходит по периметру всего дома. Я задаюсь вопросом: кто его построил. Сколько деревьев пошло на эти доски. Чертовски напрасная трата.
Рядом с перилами есть место, где дерево прогнило и стало рыхлым. Каждый раз, когда я прохожу мимо, поднимаясь на верхний ярус террасы, я надеюсь, что провалюсь.
Пристально глядя на поле, я нажимаю носком туфли на мягкое место в древесине.
На столбе изгороди сидит, широко расправив крылья, гриф.
Когда я был маленьким, олени приходили сюда умирать. Не знаю, почему. Я не знаю, зачем кому-либо хотеть здесь умирать.
Возможно, оленей здесь больше нет. Или, может, эти мерзкие птицы просто сделали это место своим домом.
Мой отец, увидев на изгороди машущих крыльями грифов, ругаясь, пошёл бы через высокую траву с дробовиком, чтобы избавить умирающее животное от страданий. По крайней мере, так я говорил себе тогда. Много лет спустя я понял, что ему нужно было точно знать, где лежит туша, прежде чем от неё останутся одни кости, обглоданные койотами. Так он мог собрать кости до того, как они попадут в лопасти его садового трактора.
Чёрные-чёрные крылья. Эта скотина смотрит на меня. Даже отсюда он выглядит зловеще.
Мне хочется кричать во всю мощь лёгких: «Мне плевать, кто там умер! Можешь и меня забрать!»
Это чувство, эта боль – мне хочется её выбить. Проглотить. Мне хочется, блять, её проглотить.
Я с силой сдвигаю до упора тяжёлую раздвижную дверь на кухню, отчего сотрясается весь дом. Я рыскаю по шкафам, содержимое вываливается на стойку, на пол, в пыль.
До тех пор, пока не нахожу её.
Сотня голосов кричит мне послушать, остановиться, вспомнить, кто я есть сейчас. Но один голос кричит громче остальных. С издевкой говоря мне, что это я и есть.
Спиной к кухонным шкафам, я опускаюсь на твёрдый пол. Поцарапанное пожелтевшее дерево не такое холодное, как мне хочется,… как мне нужно.
Я отвинчиваю крышку, сжимая её в руке. Держу бутылку с янтарным грехом в другой руке, в нескольких дюймах от губ. Он пахнет просто чертовски хорошо. Голоса кричат, просят, умоляют. Улетай. Проглоти его. Выпей до дна.
Я прижимаю горлышко бутылки к губам, и у меня на языке легчайший привкус текилы. И всё. Со мной, блядь, уже покончено.
Я наклоняю бутылку. Как раз достаточно. Чтобы почувствовать крик из своего горла. Один глоток. Один грёбаный глоток. Проглоти. Сделай это. Это у тебя в крови.
Я делаю это. Глотаю. Как грёбаный трус, кем я и являюсь. Я чувствую этот крик. Чувствую, как алкоголь бьёт по желудку. Как он обволакивает стенки и жжётся так знакомо и незнакомо.
Это неправильный крик. И всё, что я вижу – это голубоглазого мужика и глаза, которые не закроются.
И теперь я действительно кричу. Прогоняя его криком прочь.
С бутылкой в руке я ползу по грязному полу к раковине. Я поднимаюсь, касаясь пальцами грубой затирки между швами плитки, заставляя себя встать. На ноги.
Я держу бутылку над сливом. Я наклоняю её ровно настолько, чтобы содержимое начало капать. И затем поднимаю её высоко в воздух, в лёгких клокочет ярость.
Развернувшись, я швыряю её изо всех сил. Клянусь – я почти слышу, как она с шумом пролетает по воздуху, словно птица в оконное стекло.
Она ударяется о стеклянную дверь, слышится звон разбитого стекла. Всего через секунду резкий звук стихает, и наступает тишина. И затем дверное стекло начинает трескаться и ломаться. Словно от взрыва маленьких мин. Это почти успокаивает.
Алкоголь растекается по полу среди грязи и осколков стекла.
Очень долго я просто смотрю на это.
Сейчас мне следовало бы уйти. Пойти на автобусную остановку и навсегда уехать. Оставить эти коробки с воспоминаниями и съебаться отсюда.
Но я не могу.
Я нахожу в кладовке пластиковое ведро и оранжевую губку, которой мой отец мыл свой грузовик. И убираю беспорядок.
Я несколько раз обрезаю пальцы, пока собираю всё до последнего осколка.
И затем я драю пол. До блеска. До тех пор, пока солнце не садится ярко-оранжевым заревом. И гриф исчезает со столба.
Вот когда я вижу её. Стоящую у изгороди. Ветер запутывается у неё в волосах.
Мне хочется идти к ней. Хочется, чтобы она пришла ко мне. Хочется повернуть время вспять.
Я вижу нерешительность в её позе. И затем её рациональная часть проигрывает, когда она перебрасывает ноги через белую-белую изгородь.
Она обхватывает себя руками, когда идёт через траву.
Я наблюдаю за тем, как она внимательно осматривает землю, дом. Сейчас я к ней ближе, чем когда-либо за несколько лет. И всё равно недостаточно близко.
Я не уверен: предполагает ли она, что я её вижу или молится, чтобы не увидел. Но она идёт сюда.
Я отвожу взгляд всего на секунду. Чтобы совладать с дыханием. И когда снова смотрю, она сидит на старом пне ивы. Нашей ивы. Во всяком случае, той, которая была нашей.
Переплетённые корни до сих пор в земле, разбросаны повсюду. Единственная причина, по которой пень ещё здесь – это потому, что мой отец никогда и никому не платил за работу. Он мог сам сделать всё что угодно. Даже если только теоретически. И поэтому этот пень стоит, а корни гниют в земле.
Я стою у окна и наблюдаю за ней. До тех пор, пока не убеждаюсь, что она меня видит. До тех пор, когда больше нет сомнений.
А затем меня и вовсе больше нет в этом доме.
Я медленно спускаюсь по ступенькам террасы позади дома. Проходя мимо, толкаю старые качели, и они касаются высокой травы. Я даю ей все шансы увидеть, что я иду.
За день погода изменилась, воздух холодный и колючий.
Я не знаю, что собираюсь ей сказать, как собираюсь на неё смотреть, и даже позволит ли она мне.
Я останавливаюсь, когда оказываюсь достаточно близко, чтобы слышать её, видеть, но не прикасаться к ней.
Она подбирает гладкую деревяшку от старого пня, и мне хочется, чтобы она что-нибудь сказала. Мне хочется, чтобы сказала она.
Её волосы развеваются на ветру. Мне хочется схватить прядь и накрутить на палец. Хочется рассказать ей всё. Хочется, чтобы она простила меня. Мне хочется, но мне нечего ей дать.
- Ксана, тут холодно. – Это первые слова, что я говорю ей. Вслух.
Она не отвечает, но смотрит на меня. Взглядом, которым сегодня утром смотрела на меня её мать. Мне хочется, чтобы она прекратила. Но я приму то, что могу получить.
- Валера, ты в порядке? – И от её голоса мне хочется быть ближе.
- Валера?
Этот вопрос разрушает мой мозг. «Ты в порядке?»
- Нет. – Потому что это правда.
- Валера…
Но я не хочу её жалости.
- Выглядишь хорошо, Ксана.
Секунду она оценивающе смотрит на меня. Я точно знаю, что она делает. Она пытается увидеть это. Увидеть то, что я так долго прятал от неё. Её голос спокойный и беспощадный.
- Валера, ты выглядишь… усталым.
Я гораздо больше, чем просто устал.
- Ты вернулась сюда.
Она подтверждает это кивком, слова слишком сильные, чтобы их говорить. Мне хочется спросить у неё, получила ли она моё письмо, тогда, много месяцев назад, но я слишком трушу услышать ответ.
- Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я вместо этого.
Она пожимает плечами.
- Я не знаю. – Я теряю её глаза. – Я приезжаю сюда иногда.
- Для чего?
Глаза снова смотрят на меня.
- Чтобы подумать. Посидеть на пне и вспомнить.
Чтобы вспомнить.
Я хочу прикоснуться к ней. Взять её за руку. Я никогда не держал её за руку достаточно.
Она крепче обнимает себя, засовывая руки в рукава, чтобы согреть их.
- Ксана, хочешь зайти?
- Валера…
Мы продолжаем произносить имена друг друга. Словно пытаемся напомнить друг другу, кто мы есть. Или, может, кем были.
- Ксана, пожалуйста. – Я протягиваю руку, но она не берёт её. Она спрыгивает с пня, и мне хочется схватить её и умолять не уходить.
Я не прикасаюсь к ней. Не смею.
Почти невозможно держать руки по швам, когда она проходит мимо меня. Но она не уходит. Она идёт к дому. Она не оборачивается посмотреть, иду ли я за ней.
Она без колебания поднимается по задним ступенькам. Открывает дверь и исчезает в тёмной кухне.
Я нахожу её в гостиной, где она проводит пальцами по фоторамке.
Мне не хочется смотреть, как она вспоминает.
Я разжигаю огонь в старой дровяной печи, которой нужно изрядно потрудиться, чтобы обогреть больше, чем эту комнату. Мы сидим на розовом ковре перед печью, греем руки. И не говорим.
В течение нескольких минут единственные звуки в комнате – это потрескивание и шипение дров. Я оставляю дверцу в маленькой печи слегка приоткрытой, чтобы огонь разгорелся, как учил меня отец.
Я наблюдаю за её руками, когда она трёт их друг о друга перед оранжевыми языками пламени.
И теперь я смотрю на её лицо. Я сморю на её ресницы, и невольно вспоминаю ощущение от них на своей щеке. Ощущение от них под моими губами.
Она несколько минут терзает свою губу, прежде чем заговорить.
- Я слышала, твоему отцу плохо. Валера, мне очень жаль.
Так вот почему она здесь.
- Он умер.
- Что? – спрашивает она резким шёпотом.
- Я сказал, он умер. Сегодня. Он умер сегодня.
- Валера… - Она тянется ко мне, кончиками пальцев едва касаясь моей кожи. Легчайшее прикосновение этих знакомых рук почти невыносимо. Мне хочется схватить её и прижать к себе. Более того: мне хочется, чтобы она обняла меня в ответ.
Я тянусь за её другой рукой, и она позволяет.
Я крепко обнимаю её, и она пытается высвободиться. Я крепко держу её до тех пор, пока не вспоминаю, что я не должен, не могу, что она больше не моя. Выпуская её, мне кажется, что я умираю.
Но она всё ещё держит меня. Её пальцы всё ещё обхватывают мою руку. Я осмеливаюсь украдкой взглянуть ей в лицо, и она тоже смотрит. На наши сплетённые руки. Я вижу внутреннюю борьбу, которая отражается на её лице. И затем вижу принятое решение. Я отвожу взгляд прежде, чем оно уничтожит меня.
Я смотрю на её руки, когда они медленно отпускают меня. Но она отпускает меня не совсем, её пальцы движутся вверх по моим рукам, и она не сводит с меня глаз.
Рыдания у меня в груди и слёзы на лице почти не чувствуются, пока её руки касаются меня.
- Ш-ш. – Я чувствую её дыхание на лице. Она пахнет как всё, чего я хочу.
И мои прикосновения не так легки, как пёрышко. Я хватаю руками её за бедра. Я не знаю: это я притягиваю её к себе, или она сама забирается ко мне на колени.
Большими пальцами она стирает мои слёзы. Грёбаные слезы человека, который их не заслуживает.
Она тоже так думает? Я – человек, который не заслуживает?
Я боюсь дышать, когда она прижимается лбом к моему лбу. Обхватывая меня ногами и держась за меня так, словно я человек, которого она любит.
Я помню её поцелуи. Лучшие поцелуи. Только её поцелуи.
Мне хочется украсть их. Все их. Всего один.
Она так близко, что, возможно, мне даже не придётся быть вором. Но я слишком боюсь, что она отстранится. Я слишком боюсь, что эта секунда станет самой последней.
Прежде, чем у неё появляется ещё одна секунда, чтобы подумать, сбежать, я целую её губы. Всего один раз. Я целую её осторожно и нежно. Я целую эти губы, которые делали лучше всё на свете.
До сих пор делают.
Я не двигаюсь, и она не отстраняется. Наши губы до сих пор соприкасаются, совсем слегка. До тех пор, пока не разъединяются.
И это пытка. Потому что одного поцелуя недостаточно. Мне нужно больше. Мне нужно взять. Проглотить её целиком.
Скажи мне «стоп». Скажи, что всё хорошо. Наши губы так близко, так близко, и я собираюсь поцеловать её ещё раз. Всего раз. И это тот момент, когда не важно, даже если она позволяет мне целовать себя из жалости. Мне плевать.
Прежде, чем я успеваю взять то, что хочу, она целует меня. Это она углубляет этот поцелуй. Нуждаясь во мне. Открыв рот и давая мне то, чего я хочу, но не заслуживаю.
На один краткий миг она целует меня изо всех сил. А затем отводит свои губы от моих губ, а мои руки от своих бёдер, быстро и с силой, словно только что поняла, что происходит. Словно только что вспомнила, как сильно меня ненавидит. Я открываю глаза и вижу на её лице абсолютное отвращение и шок от предательства. Секунду я думаю, что она собирается меня ударить.
- Ты пил. – То, как изгибаются её губы и как её сверкающие глаза обвиняют меня в том, что почти правда.
- Нет. Я…
- Блядь, не лги мне. Я чувствую запах.
Ложь, ложь, ложь.
- Я сделал маленький глоток. Один маленький глоток. Ксана,… пожалуйста. – Мой голос даже не здесь. Мой рот произносит слова, которых она не услышит. – Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Я тянусь к ней, хватаю за руку. Но она вырывает её.
Она встаёт и идёт от меня. Она уходит.
В прошлый раз я позволил ей. Позволил.
Я бегу за ней, шлёпаю ладони на входную дверь, прежде чем она откроет её. И она в клетке моих рук.
Её выражение меняется на испуганное, и её подбородок дрожит.
- Я не могу. Не могу это делать. Больше не могу.
- Пожалуйста, не уходи. Ксана, пожалуйста.
Её глаза закрыты.
Мои губы кружат над её лицом.
- Я не прикоснусь к тебе.
Слова вырываются из её приоткрытого рта:
- Ты же прикасаешься ко мне сейчас, Валера. Ты прикасаешься ко мне сейчас.
Я тут же отстраняюсь, поднимаю руки вверх. Сдаюсь.
- Я не буду. Я перестану. Обещаю. – И как бы больно не было давать это обещание, я говорю искренне. Я сделаю это.
Не уходи. Останься.
Она отворачивается от меня, её рука на дверной ручке. Я стою, не двигаясь, когда она медленно открывает дверь, когда толкает старую москитную дверь и перешагивает через порог на отжившее свой век переднее крыльцо.
Она не оглядывается.
Я падаю на колени, прижимая кончики пальцев к губам. Входная дверь широко распахнута.
На этот раз она убегает.
Я прилетел издалека
На двух истерзанных ветрах.
Всю жизнь за мной гналась река,
Но иссякла. Ей имя – Страх.
Хранил слова, хранил письмо –
Последний памятный трофей.
В душе, где было век темно,
Не смел назвать тебя своей
И верил, верил в чудеса.
И думал, любит. Думал, ждёт.
Во тьме кричали голоса:
«Гранитом кончится полёт!»
Искал в глазах и в адресах,
Сдавался. Сила – хрупкий пласт.
За бегом стрелок на часах
Уж таял лёд и снежный наст…
Я зря нашёл её порог,
Я зря томился у крыльца.
Из всех путей и всех дорог
Я выбрал тот, что до конца.
Я улетаю в никуда
На полумёртвой пустоте.
Не отыскать во тьме следа,
Что вёл меня вперёд, к мечте.
И эта рана никогда,
Я убеждён, не заживёт.
И всё летят в ответ слова:
«Она здесь больше не живёт»
Девушка, которую я целую...
Провинция... До...
Я – всё, чего она хочет. По крайней мере, так кажется, когда она стоит передо мной, и её губы на моих губах.
Прошло две недели с тех пор, как она поцеловала меня. Это ложь. Прошло три часа с тех пор, как она поцеловала меня. Две недели прошло с тех пор, как она поцеловала меня первый раз. С моего дня рождения.
Я убедил себя, что это был поцелуй из жалости или поцелуй в честь дня рождения. Одноразовый. Но я ошибся. Она позволяет мне целовать её в машине, и за школой, и на иве.
Сегодня у меня последним уроком самостоятельное занятие. Я прогуливаю его, потому что не могу почти час сидеть в кабинете и ничего не делать. Они не разрешают спать в кабинете для самостоятельных занятий, а я не знаю, чем ещё я должен там заниматься.
Ветер завывает в деревьях, когда я иду к машине Ксаны. Мне нужно убить пятьдесят минут.
Я сижу на капоте её «Мерседеса» и жду её. Я больше не хожу домой пешком после школы. Не тогда, когда можно сидеть в её машине на парковке и полчаса целоваться, прежде чем ехать домой. Пешком ходят лохи.
Глупые вороны скачут с дерева на дерево, галдя ни о чём. Может, они ненавидят этот ветер так же, как я. Мне хочется, чтобы Ксана скорее пришла.
У меня есть зажигалка и полупустая пачка сигарет в одном кармане, и пачка жвачки в другом. Моя рука лежит на том кармане, в котором сигареты. Но если я покурю, она учует запах и не позволит себя целовать. Поэтому я лезу за жвачкой. Я жую две подушечки, словно две чем-то лучше, чем одна.
Я высматриваю её, отчаяние овладевает мной, даже, несмотря на то, что я видел её всего несколько часов назад. Даже, несмотря на то, что она позволила мне целовать её почти весь перерыв на ланч, и я стесал костяшки, придерживая её затылок, когда прижимал её к кирпичной стене за главным корпусом.
Когда наконец-то звенит последний звонок, я с волнением жду, пока все валят из школы. Ксаны нигде не видно.
Я обеспокоен тем, что она не рядом со мной, что она не прикасается ко мне. И тогда я вижу её, смеющуюся, её волосы на лице, и рука свешивается с её плеча. Мой самый страшный оживший кошмар.
Мне хочется убить его. Хочется оторвать его грёбаную руку и затолкать её ему в глотку.
Я выплёвываю жвачку в кусты и рассматриваю её лицо. Мне хочется знать, смотрит ли она на него так же, как меня.
Я помню, что она говорила о нём. Он не мой парень. Он тот, кого она целует? Мы равны для неё?
Она выглядит равнодушной или скучающей. Вот что я говорю себе. Но он выглядит самоуверенным. Этот маленький ублюдок выглядит так, словно думает, что она принадлежит ему.
Она ловит мой взгляд, и её улыбка гаснет, когда она смотрит на меня. Она выглядит смущённой, а затем почти злой. Словно это я иду с девушкой, чья рука свисает с моего плеча. Наверно, это потому, что я сижу на её грёбаной машине, а она это ненавидит.
Я спрыгиваю с машины и отвожу взгляд. Потому что мне невыносимо видеть, как он прикасается к ней. И если я посмотрю на него ещё хоть секунду, я дам ему по морде. Сначала кулаком, а затем той железной коробкой для ланча с Хи-Меном, которую он носил с собой, когда мы ходили в детский сад.
Спиной к ним, я хватаюсь за ручку дверцы машины Ксаны так, словно это спасёт мне жизнь. Мне бы хотелось, чтобы она отперла двери, чтобы я мог спрятаться внутри её блестящей машины. Я слышу сзади звон её ключей, но она не отпирает двери.
Я слушаю, как она прощается с ним и надеюсь, что его собьёт грузовик.
Когда она идёт к водительскому сиденью, я стараюсь не встретиться с ней взглядом, сосредоточив внимание на злобных воронах на деревьях. Краем глаза я вижу, что она смотрит на меня. Чего-то ждёт.
- Привет.
Я игнорирую её. Что бы я сейчас ни сказал, это будет ужасно.
- Валера, - говорит она громче, словно я не расслышал её с первого раза.
Я выдыхаю, а затем сдаюсь и поворачиваюсь к ней лицом. В её глазах огонь, и она свирепо смотрит на меня через крышу своей машины.
- Да что с тобой?
- Ты моя девушка? – глупо спрашиваю я.
Она поднимает лицо к небу и смеётся. Она, блять, смеётся. Она так красива, когда делает это, что мне хочется кричать. Кажется, будто моя грудная клетка раскалывается посередине, и её содержимое растекается по асфальту.
- Валера. – Кажется, словно она почти бранит меня.
- Забудь об этом.
Она отпирает дверцу, и я внутри, запираюсь раньше, чем она скажет ещё хоть слово. Она очень долго стоит рядом с машиной, прежде чем открывает дверцу и бросает свой рюкзак на заднее сиденье.
Она сидит рядом со мной, на дорогом кожаном сидении, и мне хочется сказать ей миллион вещей, которые ей не понравятся.
- Почему тебе надо это делать? – Она хмуро смотрит на меня.
- Делать что?
- Всё портить.
Мне хочется сказать ей, чтобы она привыкала. Вместо этого я достаю из кармана сигарету, чувствуя себя гораздо хуже, когда, незажжённую, сжимаю её губами.
- Прикуришь её в моей машине – пойдёшь пешком, - угрожает она. Я знаю, что она говорит всерьёз, и мне всё равно.
Я отказываюсь смотреть на неё. Крепко сжимаю зажигалку в руке, большой палец прижимается к грубому металлу рифлёного колёсика, угрожая действительно всё испортить. Может, две недели – это всё, что у меня есть. Чтобы показалось, что я заслуживаю её улыбку, её слова и её губы.
Но этого времени совершенно недостаточно. Я слишком эгоистичен. Я дотрагиваюсь до кончика сигареты языком и закрываю глаза.
Выдергиваю её изо рта и вышвыриваю из окна. Я чувствую себя сумасшедшим. Чувствую, словно теряю рассудок и хочу, чтобы она это прекратила. Я продолжаю держать глаза закрытыми и прижимаюсь затылком к подголовнику.
- Он просто мой друг, Валера.
- Ага, видимо, как и я, - огрызаюсь я в ответ.
- Нет.
- Тогда кто?
- Ты не просто кто-то, понятно?
- Я не знаю, что это значит, Ксана.
Она откидывает голову назад и, моргнув, смотрит на потолок своей машины.
- Это значит, что я не хочу, чтобы ты был просто другом.
Наконец, я могу дышать, даже, несмотря на то, что на самом деле она не дала мне ничего.
- Чего же ты хочешь, Ксана?
Она выглядит так, словно ей больно.
- Я хочу поцеловать тебя.
Поцелуй меня. Блядь, сделай это.
- Я боюсь этого, - говорит она, указывая на пространство между нами. Она боится. Это нелогично. Несколько недель она только и делала, что целовала меня.
- Закрой глаза, - просит она. Но я не хочу закрывать глаза. Я хочу смотреть на неё, пока целую.
Я хочу, чтобы она позволила мне это.
Мы оба двигаемся лицом друг к другу, и я не знаю, почему у меня такое чувство, что всё закончено, когда ничего ещё даже не начиналось.
Мы просто смотрим друг на друга, и она такая печальная. Печальнее, чем я когда-либо её видел. Я смахиваю волосы с её глаз и наклоняюсь к ней. Её ресницы трепещут у моего лица, и это очень приятно, но не так приятно, как целовать её.
- Пожалуйста, не бойся меня, - шепчу я ей в щёку.
- Я не тебя боюсь.
Я не знаю, что это значит.
- Закрой глаза, - снова просит она.
И я закрываю. Я закрываю глаза и держу в ладонях её лицо. Она пахнет так вкусно, что мне хочется её укусить.
Я чувствую, как её губы кружат над моими губами, и говорю себе, что если она поцелует меня, я буду просто целовать её вечно. Я буду целовать её в этой машине всю оставшуюся жизнь, потому что её поцелуи – это всё, чего я хочу.
Я задерживаю дыхание до тех пор, пока не перестаю существовать. До тех пор, пока она не целует меня.
Её губы нежные, и она словно говорит мне то, чего не скажет словами.
Я чувствую себя живым.
Мне хочется скользнуть руками ей под блузку, но вместо этого я лишь втягиваю её нижнюю губу. Я посасываю и надавливаю, и она так хороша на вкус, что от кайфа у меня кружится голова. Я чувствую себя так, словно плыву. Мой язык у неё во рту, и мне хочется раздеть её догола. Мне хочется взять её, схватить и сделать своей.
Неистовые поцелуи замедляются, но я всё ещё держусь за неё так, словно она может попытаться ускользнуть. Мы молча сидим в машине на школьной парковке, прижавшись лбами друг к другу. До тех пор, когда она хватает свои ключи, заводит двигатель и везёт нас домой.
И вот и всё. Я совершенно уверен, что с нами покончено. Всё.
Сигареты всю дорогу прожигают дыру в кармане. Мне хочется, чтобы она что-нибудь сказала.
Она паркуется у своего дома. Мне хочется вытоптать цветы её матери и лягнуть её красивую золотую машину так, чтобы осталась огромная вмятина.
Со стиснутыми кулаками я стою лицом к своему дому вдалеке.
- Я не знаю, как ухаживать за утками. – Это всё, что я могу сказать в этот момент.
- Я знаю, - заверяет она меня спокойным тоном. Мне хочется посмотреть на неё, но я не могу. До тех пор, пока она не делает несколько шагов вперёд, обгоняя меня, направляясь к тому грязному дому.
- Ты не идёшь? – спрашивает она.
- Я думал…
- Что ты думал?
Я смотрю на её недоверчивый взгляд.
- Не знаю. Я не знаю, что я думал. – Я лгу.
Мы идём через поле бок о бок. Она не прикасается ко мне. Мне хочется, чтобы она прикоснулась. Всего лишь рукой. Я просто хочу, чтобы она прикоснулась ко мне одной рукой.
Она идёт немного впереди меня, когда мы подходим к ступеням заднего крыльца, и каждая половица скрипит и стонет под её ногами.
Я не знаю, как она может стоять так высоко, когда она такая маленькая.
Утята уже не маленькие. За день, пока мы в школе, они устраивают огромный беспорядок. Смотреть на то, как она убирает за ними – часть послеобеденного распорядка дня. Я смотрю, как она сворачивает грязную газету и стелет свежую. Смотрю, как она меняет им воду и наполняет кормушку. Они крякают ей так, словно она их мать.
- Думаю, скоро они вырастут достаточно, чтобы жить на улице. – Она улыбается, словно гордится тем, что они растут.
Мы выносим их на улицу, чтобы они погуляли на солнце, и они повсюду следуют за Ксаной.
А я просто смотрю на неё. Это почти как раньше. Когда мы ещё не были даже друзьями, и я только смотрел на неё.
Я жду, когда она догонит меня, и когда она догоняет, я не отвожу взгляд. В её глазах голод, и я говорю себе, что не просто вижу то, что хочу видеть.
Она больше не улыбается. Её рот выглядит почти измученным, словно в нём запуталось слишком много слов. Она идёт ко мне до тех пор, пока носки её туфель не налетают на мои.
- Закрой глаза, - умоляет она.
Я закрываю их в ту же секунду, как она просит. Я держу их закрытыми, пока секунды тикают.
Я держу их закрытыми, когда она запускает пальцы мне в волосы, касаясь ногтями кожи головы. Когда наклоняется ко мне, поднявшись на цыпочки. Когда зарывается лицом мне в шею.
Я держу их закрытыми, когда она обнимает себя моими руками. Когда я провожу своими губами по её лицу, по ее нежной-нежной коже.
И я бы согласился остаться слепым навечно, если бы сейчас она поцеловала меня.
- И что мы будем с этим делать? – шепчет она.
Она говорит это так, словно это проблема. И я снова не знаю, что она имеет в виду.
Я целую её лицо до тех пор, пока не нахожу её губы.
- Ты будешь целовать меня, а я буду целовать тебя. – Я улыбаюсь ей в губы, но она не улыбается в ответ. Потому что для неё не всё так просто.
- Валера, кто я для тебя? – спрашивает она, сжимая в кулаках мою рубашку.
Ты - всё.
- Ты просто девушка, которую я целую. – Глаза всё ещё закрыты.
- Валера.
Глаза открыты.
- Что?
- Ты обещал не лгать мне.
- Я не лгу. – Лгу. Конечно же, лгу. Я люблю тебя. В один прекрасный день я скажу тебе это.
- Мне надо домой на ужин, но хочешь… пойти со мной? – спрашивает она, и в её голосе робость и надежда.
Я не могу поверить, что она просит меня пойти на ужин с её родителями.
Я лгу и говорю, что мой отец хочет, чтобы я ужинал дома. Она понимает, что это ложь, но больше не просит.
Я не могу встретиться с её родителями. Они попытаются забрать её у меня. Попытаются. Я ни разу не говорил ни с одним из них, но им не понравится тот факт, что она позволят мне себя целовать. Я могу это сказать по тому, как её мать поливает цветы, растущие вдоль подъездной дорожки и по тому, как её отец всегда паркует машину в гараже.
Они возненавидят всё, что я есть.
Она целует меня в щёку. В щёку, блядь. И пожелав спокойной ночи, уходит. Я смотрю, как она идёт через поле, и чувствую пустоту.
Я не хочу возвращаться в этот пустой тихий дом.
Я выхожу с террасы, и два утёнка идут за мной. Я позволяю им плавать в бассейне. Опустив ноги в воду, я выкуриваю полпачки. Солнце давно село, я разогреваю в микроволновке замороженный ужин и иду спать.
Уже за полночь входная дверь распахивается, сотрясая весь дом и меня самого. Я тихо лежу в своей постели, пытаясь оценить, насколько он пьян. Он ничего не опрокидывает, пока идёт в свою комнату в конце коридора, его тяжёлые шаги отдаются у меня в ушах. Всё стихает. Я лежу без сна. Я не знаю, как это возможно – чувствовать себя ещё более одиноко теперь, когда я знаю, что он дома.
Я жду до тех пор, пока не убеждаюсь, что он вырубился, а затем стягиваю одеяло и на цыпочках иду к двери. Я прижимаюсь ухом к полой двери, просто чтобы убедиться. Но ничего не слышу.
Дверь скользит по ковру, когда я открываю её. Минуту я стою, не двигаясь, а затем медленно иду по коридору.
Он оставил дверь спальни открытой. Я стою на ступеньке, которая ведёт в его комнату с розовыми обоями и подходящим по цвету ковром. Глядя в темноту, я просто пытаюсь рассмотреть его фигуру на кровати, лицом вниз поверх покрывала. Я вижу, как с каждым вдохом и выдохом его тело поднимается и опускается.
Иногда я задаюсь вопросом: найду ли его мёртвым в этой самой комнате.
Я иду обратно в коридор, не беспокоясь о шуме, потому что теперь знаю, что он мертвецки спит. Но не возвращаюсь в свою комнату.
Полная луна светит в гостиную, её зловещий свет падает на мебель.
Я стою на кухне перед раздвижной стеклянной дверью. Почти светло.
И затем я вижу её. Едва одетую. Она сидит на изгороди, которая отделяет владения её родителей от наших.
Всё моё тело болит из-за неё.
Здесь ночь громкая, насекомые и лягушки пытаются перекричать сильный ветер.
Её белая майка практически светится в лунном свете. Она обхватывает себя руками, её волосы распущены и спутаны. Моё сердце беспорядочно бьётся, беспокоясь о том, что она на улице посреди ночи.
Я иду через васильки, и чёртовы сорняки колют мои босые ноги.
Она не видит меня до тех пор, пока я не оказываюсь практически перед ней, и она вздрагивает всем телом при виде меня.
- Я думала, это койот. – Она нервно смеётся, пытаясь удержаться на изгороди.
Иногда я чувствую себя койотом. Словно пытаюсь охотиться за неё.
- Это всего лишь я.
Я стою в футе от неё даже, несмотря на то, что мне хочется обнять её и крепко сжать.
Я невольно смотрю на её грудь, когда она разжимает руки и вытягивает длинную травинку. И, может, погода может быть сексуальной.
- Ты в порядке? Что ты здесь делаешь? Посреди ночи.
- Я не могла уснуть. Иногда я сижу здесь. - Она проводит сухой травинкой по кончикам пальцев, глядя на неё, а не на меня.
- В темноте?
Я смотрю, как она вертит травинку, у нее явно что-то на уме.
- Прости меня, - говорит она, почти слишком громко.
- Простить за что?
- За сегодня.
- Ты сидишь здесь посреди ночи, потому что чувствуешь себя плохо оттого, что не хочешь быть моей девушкой?
- Нет. – Она качает головой, и на её лице расплывается удручённая улыбка. – Я отказываюсь быть как они, понятно?
Я киваю даже, несмотря на то, что на самом деле не знаю, кого она имеет в виду.
- Мои родители влюбились друг в друга, когда учились в средней школе.
Она сказала «влюбились».
- Я не могу быть как они, Валера. Не могу.
Я не знаю, как мы вообще можем быть как её родители. У меня никогда не будет такой дорогой машины, как у её отца. Наверно, у меня никогда не будет дома, и я не буду учиться в колледже. Я не такой, как они.
- Они даже не спят в одной постели, - со стоном говорит она, прикрывая рукой глаза, словно стыдясь.
Словно она имеет какое-то представление о том, что значит смущаться из-за родителей и из-за того, кто они есть.
Она не хочет, чтобы мы были как они. Я невольно улыбаюсь при мысли о нас в доме с гаражом и цветами перед входом, которые Ксана добросовестно поливает. Я знаю, что она не это имеет в виду, но это то, что я слышу. И то, что я вижу. И то, чего я никогда не смогу иметь.
Она спрыгивает с изгороди, снова обхватывая себя руками. Она стоит и ждёт, и мне хочется её украсть. Мне хочется целовать её губы до крови и трахать в этой высокой траве.
Я робко протягиваю руку, боясь своих мыслей, собственных побуждений. Сражаясь с ветром, я убираю волосы с её лица. Я держу её лицо в ладонях и чувствую, как всё её тело тает, прижимаясь к моему. Мы стоим на поле, она обнимает меня, и мои губы на её макушке до тех пор, пока она не начинает засыпать.
Я отстраняюсь, готовый сказать ей, чтобы она шла спать, но она прижимает меня к себе.
- Не уходи.
Она моргает, глядя на меня, и выглядит такой юной, такой красивой, такой невинной. Я слегка киваю ей. Не говоря ни слова, она идет к моему дому, ведя меня за руку. И это я иду за ней. Вверх по ступенькам заднего крыльца. Через дверь на кухню. По коридору. К моей спальне.
Я смотрю, как она сбрасывает шлёпки и забирается под простыни.
Ксана в моей постели.
Я думаю о её родителях, их раздельных кроватях и о том, что это худшее в них.
Они возненавидят всё, что я есть.
Две пары глаз ночного поезда летели
Через туманы безымянных городов,
На вежды рушили проклятия метели
И в темноте носило эхо слёзы вдов…
Мы сознавали, уходя, что не вернёмся
Ни в мир живых, ни в царство безмятежных снов,
Вперёд по рельсам сквозь тоннели понесёмся…
Две пары глаз смотрели за предел основ.
Мы не радели, не молили о спасенье.
Холодных крыльев убаюкивала сталь.
Пятьсот мужей, пятьсот сынов и я – отшельник,
Совсем забыли в прелом ветре слово «жаль».
Зрачки стеклянные дождём о камни било…
Под мерный стук колёс – на всё один ответ,
Не важен день, не важен час и всё, что было.
Хотелось мне там, вдалеке, увидеть свет…